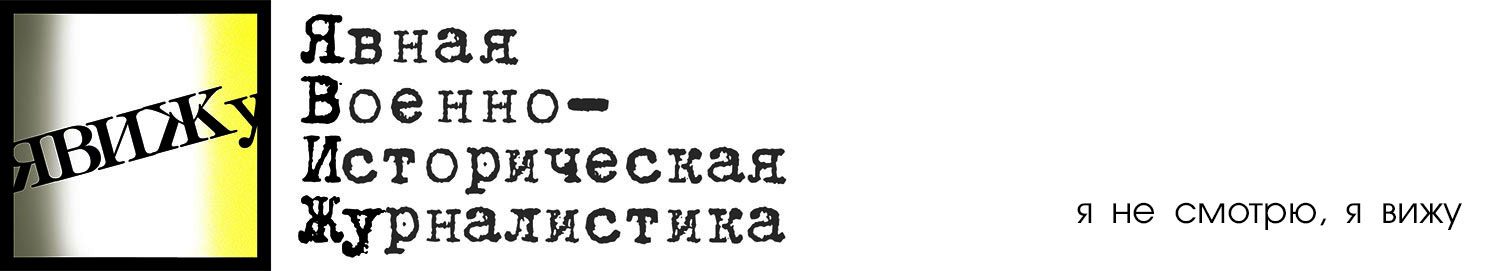Холодный день
27 декабря 1979 года в Кушке было просто страшно холодно. Издевкой казалось само название города, а находящееся в километре от стеклянной дежурки парка боевых машин кафе «Арктика» казалось претворяет в жизнь свое ерническое, для самой южной точки страны название. Просидев в замерзающей и пустой Кушке (12 декабря все войска ушли в поле, в запасной район базирования, по плану начала ядерной войны) почти две недели, перебиваясь холодной водой и остатками сухарей, я уже не верил, что в жизни вообще что-либо может быть иное, что что-то может измениться, как я вдруг…
Утром 27 декабря 1979 года я проснулся от грохота бронетехники, идущей по центральной улице города в сторону границы. Я и еще двое уставших и практически замерзающих дежурных сначала тупо посмотрели в сторону шума, но лишь я проявил энтузиазм и пошел к дороге.
По дороге шла техника Тахта-Базарского полка. Шли танки. Батальон. 50 машин. Пехотному полку большего и не полагалось. Полки друг от друга отличались специальными значками, нанесенными на броню. У 371-го кушкинского, например, был два квадрата, причем малый внутри большого. Не сказать, чтобы эта граффити кого-то хоть как-то интересовало, но нашему 101-му иолотанскому доставляла некоторые неудобства, наш полковой знак круг с вертикальной чертой, рассекающий его как бы надвое, умники с других полком с ехидным смешком обзывали, нелитературным словом из пяти букв, обозначающий сами понимаете, что… Но, сейчас я готов был прослезиться, увидев его на технике, идущей по дороге. Но, увы, наших пока не было.
Техника с небольшими перерывами шла весь день. Грохот на трассе, что располагалась в 50 метрах от дежурки, где мы спали прямо на столе и подоконниках, убаюкивал. Уже в поздних сумерках, то есть около 17.00, к КТП (он же пункт технического контроля, он же наша несчастная дежурка) подъехал УАЗик и из него лихо выскочил начальник разведки моего полка, капитан Красушкин Кронид Витальевич. Да вот такое старинное русское имя, в честь бога времени Хроноса.
Он буквально подлетел к дежурке, и с лету спросил, есть ли вода в системе (естественно охлаждения), я сказал, что слил, потому как холода, а топлива для разогрева не было. Он кивнул, мол, понял и сказал.
– Заливай воду, сейчас придет заправщик.
И особо не объясняясь, когда же я воссоединюсь со своим любимым полком и родной разведкой умотал восвояси.
Наверное, это был первый эпизод, когда я наконец согрелся за последнее время. Воду приходилось носить в дырявых ведрах с парка рембата, что от КТП в метрах в 200 от моей машины, а в БМП не буду врать сейчас, но влазит ей Богу поболее, чем 200 литров. Ну, или мне так показалось в тот момент.
Залил, сидим остываем, и я и машина. Я про себя думаю, еще часа три-четыре и воду надо будет снова сливать, а то замерзнет, морозец-то под 15 градусов, не меньше. Тротуар, по которому я воду носил, превратился в каток – одно из ведер было с изрядной дыркой, тоже, к слову, причина ударной работы. По неволе побежишь с ведрами в руках, когда есть шанс, одно из ведер принести пустым.
Уже ближе к 22.00 когда я уже даже пару раз пустил движок на последней соляре, дабы вода не замерзла, приехал Красушкин, отпустил УАЗик и прыгнул ко мне в машину.
– Топлива до нефтебазы хватит?
– Да, вроде должно.
Он как Суворов, в Альпах молча махнул рукой, и мы поехали. На заправке ничего не работало, и соответственно никто не работал, но стоял заправщик ЗИЛ-131 и быстренько заправил мою машину под завязочку. Я так обрадовался топливу, как будто сам только, что вкусно пообедал. Ну, это-то понятно. Топливо, значит, можешь ехать, значить в машине, относительно тепло, значит, работает рация – то есть полный порядок. Про относительность тепла в бронетехнике, я вспомнил довольно быстро, потому, что Красушкин имел совершенно идиотскую привычку (надеюсь, он мне извинит подобную формулировку) сидеть на краю люка командира, а через открытый люк, мне в спину нещадно сквозило. Ну, да, ладно это семечки.
Мы поехали сначала на Север, как оказалось к своим. Там на повороте на скалистом участке дороги, одиноко висел, над проходящей внизу железной дорогой танк… Да, такая нормальная «пятьдесят пятка», весом в 43 тонны. Механик водитель не вписался в поворот и чуть не слетел вниз, да гусеница, захватив грунт, остановила его на краю, ну может и не пропасти, но 10 метров строго по вертикали, тоже не мало, тем более, что ж-д сообщение было бы перекрыто тут же, а это могли, ой, как тяжело расценить. Однопутная железная дорога до Кушки, в те дни так работала, что еле успевала развести составы с военными грузами. Красушкин на пятнадцать минут принял участие в горячем (эдак, по-армейски, с матюгами) обсуждении, потом прыгнул ко мне в машину, и мы опять понесли по этим темным, забитым бронетехникой дорогам.
Сказать, что ощущал величие момента – нет, в тот момент, не было. Это уже завтра, в Герате, там было, еще даже ляпнул, по поводу историчности момента, что-то такое, что стоящие рядом офицеры на меня покосились с недоумением, а вот вечером 27-го декабря 1979 года, нет, не было. Устал как собака, был голодной как черт – это было, прочего нет.
23.15 проехали таможню. Такого количества генералов, вместе собранных в одном месте, я потом за всю жизнь более не видел, хотя и в ветеранском движении участвовал, и на семинары в Ставку Южного направления войск приезжал, да и по штабу ТурКВО, пошарахался немало. Площадка перед одноэтажным строением таможни ярко освещена, техника проходит мимо на самой медленной скорости. Я, было дело, подумал, что из-за них, из-за генералов, но, нет, как оказалось, впереди понтонный мост медленно технику пропускал через Кушку-речку, да и дороги собственно впереди не было, а так, её остатки, что были еще осенью размыты вспухшей рекой.
Ну и собственно, вот он Афганистан. Впереди был год службы, неустроенность лагерей, полуголод, постоянный холод, операции, походы (эх, один только поход на Калаи-Нау в январе-феврале чего стоил, блин!), и потом в ноябре 80-го дембель, который как оказалось, не для всех был столь неизбежен.
Роща в Герате
Помните это “Я вспоминаю утренний Кабул…”. Муромов, Михаил. Вероятно, единственно, что сделал в жизни хорошего. Но не о нем. Я тоже вспоминаю.
Мы стоим в тени небольшой, но очень густой рощицы, у ног сходятся в потоке три арыка давая начало четвертому. Удивительно прохладно. Так прохладно, что не реально здесь в провинции Герат и сейчас летом 1980 года. Нас несколько человек, солдаты и офицеры 101 мотострелкового полка. Это сейчас стало модно называть такие полки пехотными, а мы тогда гордились именно званием мотострелки. Ничего не происходит, но все стоят какие-то радостно ошалевшие и громко, и опять же радостно о чем-то говорят. Я стою несколько в стороне и не принимаю участия в беседе. Я стою и вдыхаю этот удивительный прохладный воздух, наполненный вкусом жизни, звенящий весь от нее, от жизни. Может, там место такое было, ну энергетическое, не знаю, но было очень хорошо.
Гератом то место где мы находились, можно было назвать весьма условно. Если подразумевать под Гератом весь гератский оазис, тогда да, тогда Герат. А если под Гератом предполагать немногочисленные городские улочки и кварталы, то это был дальний пригород города. У нас в почти весь 1980 год прошел на запад от центра Герата, и как города, и как провинции. Прошел, проехал, провоевал. Пару заездов в Калай-Нау, что на северо-востоке от Герата, можно почти не считать.
Среди стоящих в роще командир полка Коптяев. Папа. Иначе в полку его никто не звал. При этом ни грамма иронии. В этом слове что-то было у нас у мальчишек. Так зовут отца, когда маленький. Можно подумать, ты в 19-20 лет взрослый. Тем более, в те-то времена в начале 80-х.
О том, что Коптяев – Владимир Михайлович, я узнал куда позже и то благодаря Интернету. А тогда для всех не нашего полка, Коптяев, для всех наших «папа», и все понятно.
Второй кого помню, вероятно, даже лучше помню, чем Коптяева, это наш НШ, начальник штаба полка, второй человек после «папы». Его, почему-то, большинство звало по имени и фамилии, хотя и отчество часто произносилось – Сопин Борис Григорьевич. Борис Сопин, был личностью легендарной, и не потому, что второй после “папы”, а так сам по себе, и хотя в начале 80-го года, никто еще не успел особо проявить храбрость какую-то, но выправка, манера держать голову и самого себя, безусловно, располагали.
По ощущению, не по памяти помню Кравченко. В тот май он уже командовал не нами, разведкой, а батальоном, но по ощущениям он был в той роще и что-то веселое рассказывал мужикам. Ржали они, конечно, что те кони.
Те, кто входил в Афган, те, кому Борис Григорьевич подарил 5 мая, на ежегодной встрече 5 мотострелковой дивизии, легендарный шеврон «101 мотострелковый полк. Афганистан. Герат. 1979-1981» хорошо знают Владимира Кравченко. Особенно, хорошо помнит его горно-копытный батальон, который он принял вместе с Орденом Красной Звезды, после ледового похода на Калай-Нау, в январе-феврале 1980 года.
Кравченко, мужик, он конечно с большим и тонким чувством юмора, точнее настолько тонким насколько это возможно в Армии. Сори, Советской Армии. Как-то во время учений в пустыни, он так схохмил, что многие на всю жизнь запомнил нехотя брошенную фразу. Дело было к концу учений, разведка отдыхала, то есть, валялась на раскаленном песке, под наклонным листом брони БМП и пыталась как-то выжить на пятидесятиградусной жаре. Кто еле живой завел песню о том, что помогает от жажды в жару и ляпнул, что-то вроде: “А вот еще, говорят, хорошо помогает от жажды зеленый чай”. Кравченко, валяющийся здесь же, ответил: “А еще здорово помогает от жажды, сидеть на берегу хауса, в тенечке, бутылочка запотевшего с холодильника пива, и чтобы ножки в холодную воду опустить”. И столь это было ирреально в той ситуации, столь дико и невозможно было, что все начали ржать как безумные и долго не могли остановиться. Вот стоят мужики в моей памяти в той рощице и никуда не хотят уходить. И вспоминаю я их каждый день, а почему. Не знаю.
Каждый год 18 апреля…
Каждый год 18 апреля я праздную второй День Рождения. Традиция обязывает подобный день отмечать в честь пережитой смертельной опасности, и я от неё, от традиции не отхожу. 18 апреля 1980 года в Афганистане, недалеко от Герата, у кишлака Истрав был тяжелый бой. В том бою душманы, которых, впрочем, мы в те времена ещё звали, просто басмачами, неоднократно пытались меня убить, но им это не удалось. Не буду врать, не знаю, достал ли я кого-нибудь из них, но главное – выжил. Кроме того, ни за тот бой, ни за другие, в которых довелось побывать в Афгане, никогда не было стыдно, делал, что должен и если страшно и было, то точно не трусил.
Сам бой у Истрава начался для разведки 101 полка 16 апреля. В тот день мы с утра пораньше на машинах тронулись в сторону Герата. Шли относительно небольшими силами, взвод разведки на БМП, рота пехоты, медики со своим чебурашкой (гусеничный тягач медицинский – ГТ-МУ) для эвакуации раненных. Шли сначала на север по бетонке, потом сразу за мостом свернули на запад и шли так километров с тридцать-тридцать пять. Возле какого-то незнакомого кишлака спешились и получили команду, пешим ходом в составе одной группы пройти сквозь кишлак. Было неприятно, но кишлак оказался пуст, как будто вымер. Плохая примета, но обошлось. На выходе нас встретила наша же бронетехника, которая за время нашего пешего путешествия объехала кишлак и снова вышла на дорогу.
Затем мы загрузились на технику и проехали ещё километров пять. Опять спешились, опять прошли сквозь кишлак. На этот раз даже встречались люди, хотя и смотрели на нас с опасением. Церемония прохождения сквозь кишлаки повторилась в тот день ещё три раза. Следующий повторил предыдущий. Конечно же, от повторов чувство опасности начало притупляться. Были яркие эпизоды, конечно, но их было немного. Один раз афганец испугался чего-то, и его арба, запряженная ишаком, съехала в арык, что тёк по центральной улице кишлака. Мы ринулись помочь, а он, похоже, так испугался, что готов был убежать. Однако, гордость ему не позволила драпануть, и мы втащили арбу на дорогу. Шли потом гордые такие, ну как же, помогли местному населению, пошли дальше. Был ещё эпизод, когда командир взвода лейтенант Колесников, увидел на окраине кишлака, на кладбище большое зелёное знамя на могиле. Он начал говорить, что его надо убрать, что это типа мусульманский символ джихада, но его всё-таки не послушали и оставили знамя на месте. И, кстати, правильно сделали – мы тогда не знали, что у мусульман есть традиция ставит на могиле такие знамена в случае, если смерть лежащего в неё не отомщена. То есть, нас тот случай вообще не касался, а мы бы влезли.
Ночевки в том рейде были в степи, службу охранения несла пехота, а разведка сладко спала, точнее, беззастенчиво дрыхла, типа положено.
18 апреля начался так же, как и предыдущие дни, до обеда прошли то ли три, то ли четыре кишлака. Потом встали на обед. Перекусили и начали готовиться к движению. Впереди стоял большой и явно богатый кишлак. Это и был Истрав. До сих пор не знаю, что за название такое, вроде и не тюркоязычное, и не фарсоязыное, а какое-то хинди сплошное. Так как кишлак был большим, нас озадачили двигаться тремя группами одновременно, справа, слева и строго по центральной улице.
Углубление в кишлак шло нарастанием заборов. Сначала ты идёшь просто по полю, потом появляется невысокий в двадцать-тридцать сантиметров глиняный заборчик – дувал, которым ограничивают скотину, чтобы она не перешла на соседский выпас. Далее заборчик поднимается до полуметра и за ним виден тот же выпас, но трава на нём выше, а порой встречаются отдельные деревья. Потом забор поднимается чуть выше человеческого роста и это уже сады. Каждый сад, у старого и богатого кишлака – это четыре все те же глинобитные стены с размером сторон не больше двадцати метров. Нет больше поливной земли в этих краях, а потому каждый кусок земли обрабатывается с большим тщанием и ценность имеет неимоверную. Но и это ещё не всё, скоро заборы начинают подниматься на высоту двух, потом и трёхэтажного дома. Это крайние и довольно бедные семьи живут в таких домах. У семьи богатой высота дома куда выше. Я один раз насчитал восьмиэтажный дом на одну семью. И всё сделано из простой необожженной глины. Первые этажи в этих случаях превращаются в пещеры, в которых, кроме прохода наверх можно только хранить сено скоту. Второй и третий этажи также кладовые, и никакого света в них быть не может, просто потому, что и здесь толщина стены в среднем два-три метра. Уже на четвертом этаже появляются узкие и глубокие как амбразуры окна. Естественно не застеклённые, они просто для того, чтобы хоть какой-то свет проникал скоту. И здесь располагаются загоны с козами. Баранов в дом не заводят, с ними ходит бача/пацан/пастушок и его дело пасти и охранять их. Домашние козы, дело другое, их выгуливают собственные дети и живут они в домах. Выше появляются кладовые человеческие, ну, то есть для людей. Последние два или три этажа жилые. Но и здесь не только жилые комнаты, здесь же тандыр, в котором пекут хлеб, здесь же казан под навесом для готовки пищи. Отдельно комнаты женщин, отдельно дети, и ещё отдельно спальня мужчины. Гостевая комната одна, и хотя она самая большая, редко в ней бывает десять-двенадцать квадратных метров.
В Истрав наша группа, которая шла слева от центра, и которой командовал как раз Александр Колесников, успела войти только до высоты второго этажа. И практически одновременно с двух сторон, поверх дувалов по нам дали автоматные очереди. Слава, Богу, ни в кого не попали в нашей группе. Вокруг сразу поднялась пыль, которую пули выбили из пересохшей глины. Я в группе шёл радистом-санинструктором и сразу услышал, как группа Заворуева, старшины роты буквально орала в эфир, что Сашку Заворуева убили. В этот момент мы уже успели спрятаться в нишу в заборе, и ощетинится стволами.
– Шурку убили. – сказал я.
– Что, кто сказал? – рявкнул Колесников, забирая у меня тангенку рации.
Он связался с командиром операции и тот подтвердил потери, правда, добавил, что ещё погиб Коля Мокану.
Надо было как-то выходить из кишлака. Было такое ощущение, что за каждым дувалом прячется враг, готовый в любой момент открыть огонь. Мы, прикрывая друг друга, начали выходить из кишлака. В этот момент в центре уже во всю шла заполошная стрельба. Выйдя до места, где дувалы стали в метр высотой меня оставили прикрывать отход, а группа рванула к своим. Мы шли уступами, по пятьдесят метров, пробежал, встал, прикрываешь своего и даёшь ему возможность показать спину врагу. Я перепрыгнул через дувал и начал высматривать противника. Тут сзади меня раздаётся глухой рык, я только успеваю развернуться и дать одиночный выстрел в бегущую на меня огромную собаку. Надо сказать, у афганцев местная форма овчарки весьма похожа на алабая, но примерно не треть больше среднего кавказского или среднеазиатского алабая.
В общем, мне повезло, и я попал в эту собаку Баскервилей с первого выстрела. Псина легла в десяти метрах от меня и закрыла глаза, как будто устала и решила поспать. В центре лба у неё была видна точка. Это изрядно нервировало. С одной стороны, нельзя пропустить появление врага, он мог показаться над краем думала в любой момент, с другой стороны я всё ждал, когда мои позовут меня и мне нужно будет бежать очередную стометровку, ну а с третьей стороны, подлая собака так мирно умерла, что я всё никак не мог в этот поверить и косился на неё.
Наконец меня крикнули, и я рванул. Через метров пятьдесят-шестьдесят дувал стал даже не заборчиком, а так легким пригорком и в этот момент я услышал, а уже потом и увидел, как на нас на боевом курсе идёт вертолёт. До последнего я был уверен, что это какая-то ошибка, и он сейчас нас разглядит и повернёт. А вот, «фиг-вам», как говорил Шарик из Простоквашино, вертолётчик решил, что лучше пульнуть, чем мучиться от осознания того, что не пульнул, и вдул длинную очередь из пулемёта.
Мы рухнули на землю как подкошенные. Двадцать сантиметров дувальчика нам казались такими огромными, и они могли спасти нас от пуль. Хотелось мгновенно закопаться, но врыться в эту сухую, натоптанную веками землю, было невозможно даже с сапёрной лопаткой. Тут на нас начал заходить ведомый. Колесников был относительно рядом со мной. Он буквально прыгнул на всех четырёх конечностях и оказался рядом со мной.
– Зубр, твою мать, – орал он в эфир, командиру операции, – Вертолёты с севера кишлака ведут огонь по моей группе.
Пока он это орал, ведущий дал свою очередь. Фонтанчик пыли из-под пули взметнулся буквально в двадцати сантиметрах от моего носа, но и тут снова пронесло. Однако, вертолётчики нам попались весьма упёртые и они, сделав круг возвращались, чтобы нас добить. В группе не вставая, и готовясь снова упасть на землю, махали руками все, кто мог. Я не мог, у меня в одной руке был автомат в другой тангенка рации. Ведущий сделал элегантный поворот и снова встал на боевой курс. Мы приготовились к худшему. И тут не открывая огня, ведущий пошел вверх и вбок. Дошли матерные молитвы Колесникова до командира операцией, а того до руководителя полетов или авианаводчика, не знаю кто там был.
Когда мы добежали до БМП все были хороши, в пыли, с потёками пота по грязным лицам. Я дышал как паровоз – никогда, знаете ли, не отличался хорошей дыхалкой. Но мы были живы. Я с удивлением для себя обнаружил, что место, где располагался штаб операции, чуть ли не за несколько минут стало на диво многолюдным. Там, где раньше стояли грузовики с пехотой, а полк к апрелю 1980 года так до конца и не получил положенные по штатному расписанию бронетранспортёры и часть пехоты ездила на ЗИЛ-131, собралось множество техники и людей.
Потом пришел агитационный БРДМ и начал убеждать гражданских выйти из кишлака. Вышло человек пятьдесят, но большинство оставалось. Те, кто вышел, сел на пригорке и стал молча наблюдать, как наша авиация и артиллерия долбить их родной кишлак. Потом был бой. Мы пытались войти в кишлак, нас выгоняли огнём. Мы обстреливали кишлак, бомбили его снова входили, и снова выкатывались под огнём противника. И так три дня. Полк под кишлаком потерял четверых убитыми, двоих без вести пропавшими, о количестве раненных ничего не знаю. В конце концов, душманы, или духи, как мы их потом стали звать ушли. Тихо, ночью, но ушли. Кишлак шмонали на предмет оружие и вражеской литературы часа два. Ничего не было. И мы ушли. А он, кишлак Истрав, остался. В том числе и в душе. Но это было первое серьёзное боевое крешение полка. Мы начали понимать, что надо делать в бою, и чего делать не стоит. Мы научились понимать и чувствовать бой. Мы стали бойцами. И остаёмся ими.
Пента
Они призывались из одного военкомата, десять здоровенных пацанов спортсменов, боксеров, самбистов. Все попали в одну учебку, в знойном южном городе, где арбузы стоили дешевле хлеба, лепешек точнее. Вместе попали в пехотный полк “за речкой”, точнее со стороны Кушки речки как таковой не было, но словооборот был, и его применяли. После тяжелых боев в 1983-ем от десятерых осталось лишь пятеро. И то, один перед самым дембелем слёг с желтухой, точнее сказать желтухой-то переболели все, а вот этому не повезло, умудрился второй раз ее подцепить, и так плохо стало, что отвезли его сначала в госпиталь, в дивизию, в Шинданд, а потом и вовсе в Ташкент. Второму также не повезло, на аккордной операции пуля пробила верхнюю часть легкого. Но в госпиталь ехать отказался, боясь, как товарищ застрять, ранение скрыл, бравирую перед друганами, и поговаривая, что, мол, фигня какая на вылет, дома залечу. Его отговаривали, но когда на третий день его ранения подъехала машина в Союз, ничего поделать не могли – они его понимали домой хотелось. Думалось в тот момент пронесет. Не пронесло, в поезде, а на самолет денег тратить не стали, поднялась температура, а из раны стало плохо пахнуть. В Ташкенте, сквозь который приходилось ехать решили навестить своего, и пошли на старую территорию 340-го окружного госпиталя. Их брат из палаты буквально выполз, но из понтов решил выпить водки. Похужело сразу после первых пятидесяти грамм, но ничего продолжили без него. А второму становилось все хуже и хуже, и тогда его показали мужикам врачам в приемном. Те, не будь дураками все поняли, упаковали его на дежурную скорую и повезли на новую территорию, где находилась вся хирургия. Прооперировали его буквально через час по прибытию и когда други, наконец, нашли, где ж эта самая «новая» территория госпиталя, он уже лежал в седьмой гнойной хирургии на третьем этаже самого дальнего корпуса. Однако поговорить не удалось, так как он был под наркозом, а у них уже скоро был поезд дальше, домой. Оставили записку, какие-то яблоки, что купили на рынке у вокзала, и тронулись.
Через три года они встретились снова, все на своих ногах, все вроде даже здоровые, ну или, по крайней мере, молодые. Посидели, бухнули, как и водится, повспоминали. Один, что снайпером был на заводе пахал, другой пулеметчик, с помощью отца на плодоовощную базу устроился вроде грузчиком, а вроде и нет. Тот невезунчик, которого желтуха так полюбила крепко, получил у них погонялу – “Боткин”, и работал электриком на местом пивзаводе. Мужики его прикалывали, мол, это же ад, сущий, столько халявного пива, и больная печень, он скромно улыбался. Еще один из друзей на службе выбился в командиры, ну почти командиры, в младшие сержанты, командира расчета 85-милимметрового миномета, а вот на гражданке у него как-то не заладилось, то в одном месте поработает, то в другом, не держался как-то. Хотя и токарь вроде был классный и разряд не слабый по своим годам имел 5-ый, но вот не ладилось у него и все. Пятый друг работал сантехником в ЖЭКе, а вечерами учился в местном ПедВУЗе, на истфаке. Вот он сейчас и говорил.
– Поймите мужики, ветераны всю русскую историю были движущей силой общественного прогресса, вспомните декабристов, они, пройдя через войну 1812 года считали, что после войны народ должен жить лучше, а когда поняли, что ни фига это не светит на восстание пошли.
– Идиоты были твои декабристы, на хрена дергаться против системы, когда шансов никаких.
– Не прав, ты, у них вполне все могло срастись. Я читал, что их лишь один из компании проложил и о время полк не привел свой, вот они и заколебались, а пока они колебались, их быстренько окружили и пушечками расстреляли.
– Да, – мечтательно протянул снайпер, – Им бы туда штуки три пулемета по краям каре, и те бы пушки отдыхали.
– Аха, еще и таких как ты кадром с СВД штук пять.
– Да нет, тогда уж полк Града.
– Тогда Питер можно было бы тряпочкой с лица земли оттереть.
Молодые ветераны хохотали удачной шутке.
Через год, историк организовал клуб воинов-интернационалистов, минометчик открыл кооператив, а электрик пошел к нему работать. Снайпер работал на заводе, как и работал, а вот пулеметчик начал торговать на рынке. Еще через год, клуб стал организацией афганцев, где они частенько теперь собирались по вторникам. Пулеметчик, бывший к ним теперь не заходил, у него на торговых точках начались проблемы, и он разводил их как мог. Еще через три года у друга пулеметчика была своя бригада, историк запустил кучу предприятий под своей “афганской” крышей, и минометчик перевел свой кооператив под него.
В середине девяностых, когда становился российский капитал, никто из них миллионером не стал, и все остались при своих, от только как только льготы у “афганцев” отобрали из-под организации как тараканы убежали почти все “бизнесмены”. Остался только друг и еще две организации таких же фанатов, которые реально отчисляли деньги на нужды инвалидов и семей погибших. Бывший пулеметчик, а теперь авторитет, особых денег не нажил, но бедным его назвать ни у кого бы язык ни повернулся. Пару раз его уже пытались хлопнуть, пару раз, чуть не подсел, но пока был на плаву и рынок контролировал.
В 98-ом в дни дефолта, “Боткина” скрутила старая болячка и он начал свою почти постоянную лежку в больницах. Получил группу инвалидности, жена от него ушла, и остался он жить с матерью, не менее больной, чем он сам. Организация ветеранов на тот момент успела развалиться, снова появиться, с другим начальством, потом реорганизоваться, и теперь в ней заседали какие-то толстые мужики, которые на праздники любили выступать с речами сразу после городского руководства и ветеранов Великой Отечественной. Наши друзья не собирались уже многие годы. Совсем недавно, “Боткин” залез в интернете на сайт “В контакте” и увидел на нем Сообщество ветеранов их полка. К его удивлению снайпер оказался в Израиле, минометчик работал и жил в столице, и был хозяином крупного дела, пулеметчик, правда, нашел его в реале, так как жил все еще в их городе и начал реально помогать деньгами и продуктами. А вот историк подпропал. Говорят, жил одно время в Нью-Йорке, а хотя, наверное, это болтовня. Может, вы видели?
Блиндажик
Праздники на войне случай особый, к ним готовятся, их проводят с двумя прямо противоположными чувствами – с чувством обостренной опасности и с чувством разгульного веселья. Обостренное чувство опасности присуще в дни праздника как рядовому и сержантскому составу, так и офицерскому во всех его звеньях. Одних волнует, как погулять и притом не попасться на глаза старшему по званию, вторым как изловить хитроумного подчиненного за недостойным звания советского солдата или офицера гульбищем. Впрочем, старший, следящий за прохождением праздника и сам постоянно озадачен бездарно проходящим (для него лично) временем праздничного дня.
Итак, ситуация, Афган, Новый год, за пять км от передового охранения первый кишлак в зеленке. Тропа, протоптанная в снегу сменившимися видна в бинокль за три версты в буквальном смысле этого слова, то есть проход в минном поле как на ладони. Все прочее пространство залито ослепительным солнцем. До праздника еще полдня, а приготовление к нему идет полным ходом. Еще летом прямо посреди минного поля, что за спиной охранения предприимчивые саперы отрыли не слабую по всем позициям землянку, в которой есть все для жизни, а самое главное для интенсивного, можно сказать предпраздничного самогоноварения. В землянке сидит потерянный своим старшиной солдатик полгода от призыва, и варит для предприимчивых представителей полка самогон из кишмиша и корочек апельсина. И вот в такой прекрасный день 31 декабря, то есть буквально за несколько часов до самого милого сердцу всех советских праздника, на тропу в минном поле вышел ни кто иной, как самый главный комсомолец всея полка. Морозец, надо сказать, в тот день стоял эдак градусов под пятнадцать и предательский дымок установки светился всему белому свету, а остановить работу до темного времени суток у бизнесменов в погонах не было никаких сил, потому как такса в такой день, из-за высочайшего спроса, была слишком высока. И вот наш комсомолец полный энтузиазма в борьбе с зеленным змием встает на тропе в минном поле, строго напротив дымка и зычно орет.
– Боец!
А в ответ, как в той песне, – тишина. Тогда он еще раз зычно призывает скрывающегося в землянке, но тот или видел приближающуюся угрозу, или, узнав голос лидера всех комсомольцев полка, ни кажет носу из своего убежища. Комсомолец, потоптавшись и видя, как над ним незлобливо посмеивается личный состав поста передового охранения, и, делая вид, что добился цели, идет к командиру саперной роты и требует карту проходов в минных полях.
Карта понятное дело находиться в штабе, и вместе с заместителем начальника штаба, она самым внимательным образом изучается на предмет боковых ответвлений от прохода к посту. Понятное дело таковых не находиться. Зам.НШ (то бишь не для армейского люда – заместитель начальника штаба полка, и иначе третье лицо в полку) и командир саперной роты, глядя на рвение, недавно прибывшего в полк, молодого политработника, переглядываются и тихо кашляют в кулак.
Молодой офицер горячится, недоумевая, как же так могло произойти, и почему на секретных картах, связанных с боеспособностью полка имеются объекты не известные руководству полка. По его требованию находят трех солдат принимавших участие в «создании» данного минного поля. Солдаты естественно говорят, что ничего не знают, и не помнят, чтобы кто-то чего-то сделал не так, а командир роты поясняет старшему лейтенанту, что минирование подобных полей проводиться машинными методами и неположенные объекты на них не имеют возможности появиться на «свет божий». Типа технология установки мин, не предполагает прорех, или тем более незаминированных участков.
– Тогда откуда там, этот блиндаж?
– Какой блиндаж? – делает удивленные глаза ротный саперов.
– Тот, в котором самогон варят! – чуть ли не орет комсомолец.
– А вы уверены, что там есть что-то? – осторожно спрашивает его зам.НШ.
Комсомолец чувствует, что ему или не верят, или держат за идиота, что, впрочем, близко, тащит всех на злополучное минное поле. На поле уже закатное солнце, в декабре день короткий, и никакого тебе пара. Трое офицеров заходят на пост охранения, спрашивают солдат, трое говорят, что проводили наблюдения за местностью, что собственно и входит в их круг обязанностей на посту, а четвертый, которого точно видел комсомолец полка в последнее появление здесь, на вопрос видел ли он какой-либо дым честно отвечает, что видел где-то на поле какой-то дымок, но где и что это было сказать не может, так как не присматривался и потому не разобрал. Все смотрят на старлея и молчат, а он, понимая глупость положения, и то, что теперь он ничего не только не докажет, но и даже точно показать место блиндажа не сможет, раскрывает свою последнюю карту.
– Мне про этот блиндаж рассказал старшина с ПХД, он у них поварами заведует, я его на воровстве взял.
– Не, – говорит ротный саперов, – Этот старшина, я его знаю, не надежный кадр, он для того, чтобы с себя снять обвинения, и чтобы в прокуратуру дело о воровстве не ушло вам даже на командира полка наговорит.
– Это не меняет дела, с этим блиндажом надо будет разобраться.
– Хорошо, товарищ старший лейтенант, мы с этим блиндажом обязательно разберемся, а вы пока занялись бы своим основным делом, сегодня, если не проследить половина полка пьянствовать будет, так, что давайте не отвлекаться на пустую информацию. Лучше устройте внезапную проверку в расположении рот, все больше толку будет.
Все расходятся.
Совсем поздно вечером. В модуле отмечают Новый год пятеро друзей. Уже выпили, за Старый год, за Новый, помянули своих боевых товарищей, выпили за жен, что ждут, и гуляние дошло до той точки, когда расстегивается верхняя пуговица формы, а за ней и вторая.
– Нет, ну ты представляешь это новый комсомол, молодой, да прыткий. Сегодня приходит к моему ротному разведки, и говорит, мол, дай мне прибор ночного видения. Тот ему, зачем тебе. Он сначала юлил, юлил, а потом признается, хочу, мол, понаблюдать за блиндажом, на минном поле, что рядом с четвертым постом.
– И что твои разведчики?
– Да, что они лохи, что ль? Остаться без самого качественного самогона в полку, и потом, они ж тоже в доле, и кто же, кроме них сухофрукты с зеленки привезет?
– Тоже верно. – хохотнул довольный командир полка, наливая всем по очередной.
Post Scriptum. На заставке 101 мотострелковый полк в походной колонне в провинции Герат.